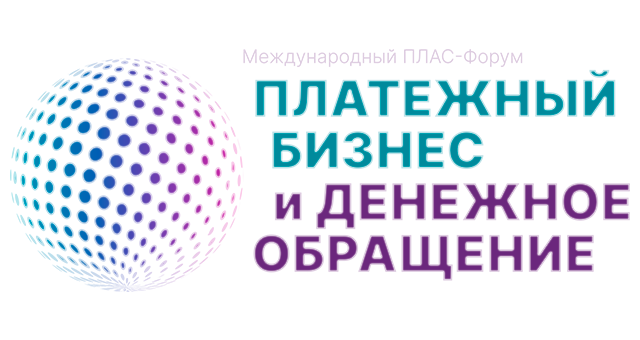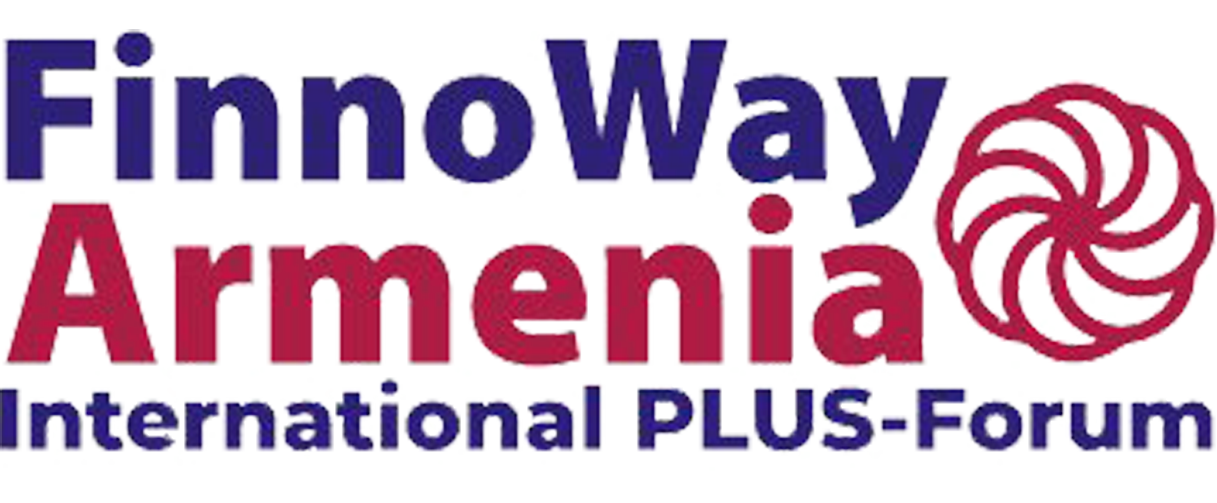Сегодня неуязвимость конкурентных позиций традиционных банковских структур на рынке розничного финансового обслуживания для многих уже не является аксиомой. В их сегмент все чаще вторгаются новые игроки из числа небанковских структур. А сами банки все активнее интересуются электронной коммерцией и маркетплейсами. Почему в России до сих пор не появился отечественный Amazon? Действительно ли крупнейшие российские банки намерены всерьез заняться нефинансовыми сервисами? Ответы на эти вопросы прозвучали в выступлении первого заместителя председателя Правления Сбербанка Льва Хасиса на конференции Mail.ru Group в апреле 2018 года.
О Сбербанке на рынке электронной коммерции
Сегодня 90% всех цифровых инноваций в мире сосредоточены в двух странах – в США и Китае. На оставшиеся 10% приходится весь остальной мир. Если посмот-реть на опыт этих двух стран, мы видим, что и там, и там лидирующая компания в электронной коммерции имеет капитализацию существенно большую, чем крупнейший банк. Второе наблюдение – и в США, и в Китае компании электронной коммерции неминуемо начинают заходить на территорию финансовых сервисов. По-этому вместо того, чтобы ждать, когда кто-то построит такого игрока, мы решили сами начать строительство структуры, которая будет развивать электронную коммерцию. Мы не одиноки, желающих построить российский Amazon довольно много как с российской стороны, так и со стороны международных игроков. И это очень хорошо для потребителя – мы станем свидетелями здоровой конкуренции c предложением лучших сервисов по минимальным ценам. В целом экономика страны и ее население от этого только выиграют.
Часто люди не задумываются, насколько значительный пласт разнообразных сущнос-тей может скрываться под определением «электронная коммерция», включая сегменты B2C, B2B, С2С, В2В2С и т. д. В каждом из них существует масса направлений с высоким потенциалом развития, и я уверен, что в ближайшие пять лет Россия продемонстрирует это на практике.
В мировой практике почти в каждом цифровом бизнесе часто действует правило «60-30-10», где 60% – доля рынка лидирующего игрока, 30% – доля рынка игрока номер 2 и, наконец, 10% – общая доля рынка всех остальных. Часто доля лидера даже больше.
При этом российский рынок электронной коммерции еще на ранней стадии своего развития, и в течение следующих 5–7 лет конкурентная ситуация может сильно поменяться. Думаю, что мы увидим соревнование бизнес-моделей, технологий, сервисов и, конечно же, кошельков. Построение значимого игрока в сфере электронной коммерции удовольствие довольно дорогое.
Наш подход – широкое партнерство с участниками рынка, как российскими, так и зарубежными.
Мы, как Сбербанк, хотим строить парт-нерские отношения с максимально большим количеством игроков в разных отраслях. Потому что многие из них уже являются нашими клиентами, другие только собираются. Создавая новые продукты и сервисы электронной коммерции для компаний, многие из которых раньше вообще не продавали свои товары в интернете, мы надеемся на рост их бизнеса и готовы им помогать. Нам важно не только создавать финансовые сервисы для наших корпоративных клиентов, в том числе для малого и среднего бизнеса, но и выстраивать цифровые экосистемы вокруг их потребностей, которые не будут конкурировать с их бизнесом, а наоборот, смогут помогать им.
Наш совместный проект с Яндексом в первую очередь направлен на кооперацию и партнерство с другими игроками, он призван дать им возможность расти. Уже сегодня у Яндекс.Маркета порядка 20 тыс. компаний электронной коммерции, которые уже являются его партнерами. Огромное количество таких клиентов и у Сбербанка. И мы будем рады всем, кто захочет работать в партнерстве с нами.

О трансграничной торговле, или Почему у нас нет своего Amazon
Сейчас ожидается достаточно интересная полоса в жизни этой индустрии, серьезные усилия многих участников будут одновременно сфокусированы на том, чтобы добиться максимально возможного масштаба.
Мы являемся свидетелями быстрого роста трансграничных моделей. Очевидно, что это происходит в силу дисбаланса налогового бремени, поскольку локальным игрокам очень трудно конкурировать с трансграничными компаниями на фоне заведомых преимуществ последних в части отсутствия бремени уплаты НДС, таможенной пошлины и т. д. Думаю, что этот рост носит временный характер. По мере того как регулирование будет устранять дисбалансы, ключевые модели бизнеса все-таки окажутся ближе всего к модели Amazon. По крайней мере, эта гипотеза подтверждается в других странах.
О будущем онлайн-торговли
В России в целом рынок электронной коммерции еще очень скромен. По разным оценкам, в 2017 году он составлял 4% от общего товарооборота, без учета рынка бензина и автомобилей, что очень и очень мало. Что касается FMCG и продуктового ритейла, то там доля e-commerce меньше одного процента.
В Китае, например, доля электронной коммерции уже превышает 20%. Таким образом, у нас есть огромный потенциал роста.
Говоря о продуктах питания, думаю, что в ближайшие несколько лет российским традиционным ритейлерам еще очень рано волноваться, вместе с тем я не согласен с точкой зрения, что люди никогда не будут покупать продукты питания, в том числе свежие, онлайн.
Во многих странах люди активно начинают переходить на онлайн-потребление, в том числе продуктов питания. Темпы роста достаточно высокие. В этом заключается одна из причин того, что акции Amazon так быстро растут – это новый для них и при этом гигантский рынок. Amazon со своими сервисами Amazon Fresh и Amazon Prime Now имеет хорошие шансы получить на нем значительную долю.

Почему Walmart пока проигрывает Amazon?
Walmart более 55 лет принадлежит одной семье. Там меняются гендиректора, но главные акционеры одни и те же. И бережно сохраняется та культура, которая была заложена изначально основателем компании Сэмом Уолтоном (Sam Walton). Там физически чувствуешь, что корпоративная культура – не лозунги на стенах, а неотъемлемая часть бизнес-модели компании, и любые бизнес-решения принимаются, исходя из ключевых постулатов этой культуры.
Основной фокус делается на операционную эффективность, что часто играет против самой компании. Потому что, например, динамическое ценообразование долгое время было в противоречии с операционным принципом every day low prices.
Второй момент – Amazon уже давно работает по модели маркетплейса, а Walmart подходил к этому достаточно консервативно, полагая, что есть существенные юридические риски в случае, когда ты несешь ответственность за третьих лиц, которых ты напрямую не контролируешь.
Ну и в-третьих, Amazon двадцать лет «сжигал» миллиарды долларов для развития своих технологий и сервисов, которые долгие годы были убыточными, а Walmart за эти годы выплатил своим акционерам миллиардов сто долларов или даже больше в виде дивидендов и обратного выкупа акций.
Не нужно забывать, что Walmart и сегодня очень успешная компания с капитализацией в четверть триллиона долларов, весьма прибыльная, ежегодно платящая своим акционерам дивиденды. Увы, реалии цифровой эпохи привели к тому, что сегодня Amazon стоит примерно в три раза дороже. Хотя Amazon, по-моему, 17 лет был убыточной компанией, вышел в плюс только пару лет назад, и даже сегодня его прибыль раз в десять меньше, чем у Walmart.
Происходит это потому, что инвесторы покупают не сегодняшний день, а завтрашний. Ситуация была упущена Walmart, и сегодня дистанция в онлайн-сегменте между Walmart и Amazon стала огромной. Конечно, Walmart сейчас предпринимает очень серьезные усилия для того, чтобы начать это расстояние сокращать. Очевидно, что сражение выигрывает пока Amazon, но война еще не закончилась. И как сложится ситуация на горизонте следующих 10 лет, большой вопрос.
Конкуренция: головой или деньгами?
Сегодня конкурируют не только технологии, не только мозги, но и кошельки. Если какая-то китайская компания готова, например, ежегодно инвестировать 10 млрд долл. США в R&D, то мы понимаем, что постепенно за счет такого рода инвестиций создается долгосрочное конкурентное преимущество. Именно поэтому я считаю, что для нас принципиально важно сотрудничество и построение партнерств. Такой подход позволяет в том числе объединять усилия и ресурсы вместо того, чтобы каждый строил свою маленькую «норку» или свой тоннель. Объединяя наши ресурсы, в том числе финансовые, технологические и интеллектуальные, можно создавать принципиально новые технологии, которые позволят нам быть в глобальном смысле конкурентоспособными в долгосрочной перспективе. В России, в отличие от Китая, экономика существенно более открыта. В Китае практически нет иностранных банков, там нет Google и иностранных соцсетей. В России есть и иностранные банки, которые имеют все возможности обслуживать клиентов, есть иностранные соцсети и иностранные поисковые системы. Российские компании на домашнем рынке конкурируют с лучшими иностранными. Да, это сложно, но успешным это позволяет быть сильнее. Когда ты тренируешься с сильным соперником, ты становишься сильнее сам.
Вопрос не в том, насколько вы успешны сейчас, а в том, насколько долгосрочен ваш успех. Не получится ли так, что конкуренты, вооружившиеся новыми технологиями и бизнес-моделями, будут постепенно обгонять, создавая для себя преимущество? Безусловно, мы несопоставимы по объемам потенциальных инвестиций. И именно поэтому здесь очень важно объединять усилия для того чтобы сохранить долгосрочную конкурентоспособность.
Digital banking: ставка на нефинансовые сервисы
Количество желающих что-либо «от-грызть» от индустрии финансовых сервисов стремительно растет. К так называемому банковскому пирогу аппетит есть у компаний многих индустрий.
Перед Сбербанком стоял очень простой вопрос – либо прикрываться какими-то регуляторными ограничениями и пытаться выживать, либо стараться идти в ногу со временем, пристально следить за инновациями, быстрее развивать различные цифровые сервисы. Сейчас число цифровых пользователей сервисов банка стремительно нарастает, подавляющее большинство всех транзакций уже осуществляется дистанционно, без визита в отделение. Мы пытаемся донести до клиентов простую мысль – процентов до 90 всех банковских сервисов можно получить дома, сидя на диване. По количеству пользователей мобильных приложений и интернет-пользователей мы являемся одним из наиболее крупных игроков на российском рынке, а приложение Сбербанка в App Store и в Google Store уже второй год подряд попадает в пятерку самых популярных приложений, которые скачиваются в России. Кстати, в нашем мобильном приложении есть достаточно хорошо защищенный встроенный мессенджер, появляются различные дополнительные сервисы, количество которых будет только расти.
Если WeChat шел по пути от мессенджера и различных дополнительных сервисов к финансовым услугам, то мы идем в обратную сторону – от инструментов, с помощью которых люди могут перечислять деньги, к инструментам, с помощью которых люди смогли бы не только общаться между собой, но и получать всевозможные сервисы, в том числе нефинансовые. Уже хорошо известно о наших серьезных ставках на электронную коммерцию, на цифровую медицину, на облачные сервисы. И в течение ближайших нескольких лет мы постараемся стать достаточно значимыми игроками на соответствующих рынках.